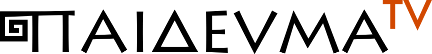Беседы о Ноомахии (4). Логос Диониса. Феноменология центра.
Аристотель непонятый: опыт феноменологического прочтения
Аристотель – учитель «нового Диониса»
Второй Логос, философия Диониса, угадывается в орфизме, в учениях греческих мистерий (особенно Элевсинских), и полнее всего проявляется в Аристотеле. Если в случае аполлонической квалификации философии Платона едва ли могут возникнуть сомнения, то сближение аристотелизма с дионисийством может показаться по меньшей мере странным и необоснованным. Так происходит только потому, что Дионис и дионисийство сегодня воспринимаются через поэтические, художественные, эстетические образцы или картины вакхических оргий и экстатических процессий. Если что-то с ним и сближают, то, скорее, философию жизни, биологизм или, на худой конец, гилозоизм. Это значит, что мы вообще не готовы принимать всерьез Диониса как философа и не отдаем до конца отчета в структурной функции его в картине философского мира.
Дело в том, что Дионису на философской карте трех Логосов принадлежит средний мир, выше которого расположены парадигмы, образцы, идеи, а ниже сомнительные и трудные для постижения (как минимум при помощи аполлонического Логоса) миры Великой Матери. Это значит, что Дионис правит в мире феноменов. В таком случае его философия должна быть феноменологической философией. В понятии «феномен» мы имеем дело с «явлением» (от φαίνω), корень которого восходит к значениям «свет», «явь». От этого же корня образованы слова aπόφασις, «сокрытие», επιφάνια, «открытие», а также λόγος αποφαντικός, который Аристотель использует для выражения «изъявительного высказывания», фундаментального начала его логики. Дионис также тесно сопряжен с циклами своих «явлений» и «сокрытий», ритм смены которых составляет структуру религиозной жизни и, соответственно, парадигму сакрального времени, его адептов. Но главное состоит в содержании философии Аристотеля, который переосмысливает учение Платона об идеях, отбрасывает его и начинает строить свои теории, отталкиваясь именно от явления, «феномена», который располагается на границе формы и материи, μορφή и ύλη. Одной стороной феномен восходит к божественной вертикали эйдоса, είδος, но в отличие от платоновской идеи, эйдос мыслится в тесной привязке к его материальной основе, а не вне ее. Таким образом, мы имеем дело с самой настоящей промежуточной философией, строго между Логосом Аполлона и Логосом Кибелы, которая развертывается в зоне, отданной мифологией (фило-мифией) Дионису, и которая претендует на совершенно автономный характер своей структуры, уполномоченной выносить суждения о том, что выше, и о том, что ниже, на основании собственных критериев. Огромный интерес Хайдеггера к глубинному и свежему прочтению Аристотеля был вызван, скорее всего, именно этим ярким осознанием того, что помимо Аристотеля-логика и создателя первой онтологии (метафизики), как его принято квалифицировать в привычной версии западноевропейского «историала», есть и другой Аристотель, Аристотель-феноменолог, попытавшийся проделать нечто похожее на инициативу Гуссерля и самого Хайдеггера в отношении Платона, но только не спустя два с половиной тысячелетия после него, а сразу же. Более подробно мы попытаемся показать это в отдельном разделе. Здесь же можно только указать на тесную связь Аристотеля с его царственным учеником Александром Великим, отцом которого, по верованиям набожных греков был Зевс, явившийся к его материи Олимпии, жрицы дионисийского культа, в образе змея (как к Персефоне, матери Загрея) во время вакхических оргий, в связи с чем самого Александра почитали «новым Дионисом». Не исключено, что его поход в Индию был продиктован личной верой в этот удивительный сюжет. Не менее удивительно, что подобная инициатива, чрезвычайно трудная и опасная в военном смысле, увенчалась небывалым успехом, и Александр Великий, «новый Дионис», действительно, сумел создать колоссальную по своему объему империю, объединившую Восток и Запад в единое культурное и цивилизационное пространство.
Другую, несколько более позднюю, модель философии дионисийского типа можно опознать в герметизме поздней Античности. Это был своего рода синтез фрагментов египетской, халдейской, иранской и греческой культур с целым рядом идей и образов, почерпнутых из орфизма и арсенала мистерий. Гермес, как Дионис, был богом, но в отличие от многих других богов отличался онтологической подвижностью, полиморфностью, способностью стремительного и динамического перемещения по всем уровням мира – от Олимпа до глубин Тартара. Греки считали Гермеса психопомпом, «водителем душ»: именно он провожал умерших в ад, а героев на Олимп. Поэтому философия, поставленная под его начала, также отличалась гибким многообразием, динамичностью и диалектическим полисемантизмом, свойственным среднему миру. Герметизм можно представить как тень аристотелевской логической феноменологии: здесь фило-мифия, образность, фигуры мистериального цикла и загадочные метафоры планетно-минерального цикла используются более охотно, нежели процедуры бодрствующего рассудка, с которыми приоритетно оперирует Аристотель и его последователи. Но существенное различие в стилистике не должно скрывать от нас общности фундаментального парадигмального подхода между этими двумя типами философствования: они принадлежат к одному и тому же ноологическому уровню -- как два отряда одной и той же армии, действующей солидарно в ходе Ноомахии.
Тенденции к синтезу герметического духа с аристотелизмом мы видим в Стое, а позднее, в Средневековье: схоластический аристотелизм (Альберта Великого, Роджера Бэкона или самого Фомы Аквинского) как тенью дублируется алхимическими трактатами (справедливо или нет, но в любом случае показательно), приписываемыми классикам рационалистической схоластики.
Дионисийское переосмысление
Тезис, с которого мы начинаем эту главу, может шокировать. С нашей точки зрения, Аристотель и его философия принадлежат топосу Диониса, то есть представляют собой дионисийскую философию. Принято считать, что нет ничего более далекого от истины, нежели такое сочетание – Аристотель и дионисийство. Но чаще всего очевидность обманчива, и, как говорит Хайдеггер, не найдется, пожалуй, вообще ни одного внятного, безусловного и очевидного предмета или явления, который бы не был проблематизирован философией.
При этом, утверждая, что философия Аристотеля – дионисийская и относится более к «темному Логосу», нежели к светлому, мы не хотим сказать, что эта философия исчерпывает этот темный Логос. Это совершенно не так, поскольку дионисийский контекст намного шире аристотелизма. Аристотель -- лишь одно из возможных направлений дионисийской философии, наряду, например, с герметизмом.
Первым, кто поставил классическое прочтение Аристотеля под сомнение и попытался перечитать его заново, стараясь понять максимально близко то, что мыслил сам Аристотель, а не то, как он был интерпретирован позднейшими (подчас противоречивыми) традициями, был Мартин Хайдеггер. В ходе своей критики платонизма и развивая феноменологическую философию в своей уникальной версии, Хайдеггер столкнулся с первым критиком Платона -- его учеником Аристотелем. И скорее всего, подумал: не является ли именно его философия первой попыткой ухода от платонизма к феноменологии (критика Аристотелем теории идей давала для этого определенные основания)? А если и не является, то, в чем отличие аристотелевской философии от платонической? Поэтому Хайдеггер может служить нам прекрасным ориентиром и учителем – его попытка понять Аристотеля является примером того, что мы называем феноменологией философии, то есть прохождением и проживанием вместе с мыслителем его пути, стараясь держаться как можно ближе к его собственным координатам. При этом, естественно, Хайдеггер руководствуется своим «историалом», своей версией истории философии и, соответственно, смотрит на Аристотеля с позиции «контемпорального момента». Для Хайдеггера Аристотель -- это Конец Первого Начала философии. От него берет свое начало переход к долгим Средним Векам (не в хронологическом, а в историко-философском смысле).
То, что Хайдеггер взялся за внимательное перечитывание Аристотеля с позиции феноменологии, само по себе в высшей степени ревелятивно. Хайдеггер увидел в нем (прото)феноменолога. В определенной мере, это стало для нас одним из оснований попробовать занести Аристотеля в зону философии Диониса, то есть в зону «темного Логоса». Если взять за точку отсчета платоновскую модель трех начал (родов) из «Тимея», то мы получим как раз схему трех уровней (ноэтического) бытия:
-
мир парадигм, оригиналов, идей (сфера Аполлона, светлый Логос),
-
мир копий, икон, феноменов (сфера Диониса, темный Логос),
-
пространство, хора, позднее ὓλἠ, материя (сфера, которую мы относим к зоне черного Логоса и Великой Матери Кибелы).
Аристотель последователен в своей критике Платона[1]в том, что он отрицает самостоятельное бытие идей/парадигм, и считает подлинно сущим лишь то, что верифицируется как феномен. То есть он выбирает своей базовой позицией именно то, что «между», μεταξὺ, а это, собственно, и есть область Диониса, мир «великого даймона». Феноменология является дионисийской во всех смыслах. В случае Хайдеггера это дублируется его глубинной симпатией к Ницше, который, в свою очередь, находился под гипнотическим влиянием фигуры Диониса (с чем, возможно, связано и его финальное безумие).
То, что Аристотель строит свою философию на ревизии платонизма, причем именно в его разделе, связанном с самодостаточным бытием идей, только подтверждает нашу интуицию и делает гипотезу, с которой мы начали данную главу, не столь экстравагантной, как могло бы показаться. Дионисийство мы понимаем не как стиль и тем более не как мифологический, обрядовый и религиозный комплекс; мы имеем в виду ноологическое, ноэтическое дионисийство, сводящееся в своих корнях к ряду фундаментальных философских установок.
Критика платонизма с позиции «между»
Острие критики Аристотелем Платона сводится к недоверию в отношении теории идей. Для Аристотеля вызывает сомнение, как идея может существовать сама по себе, без феноменального выражения. Иными словами, для Аристотеля нет опыта экстатического созерцания ноэтического бытия и его содержания, который позволял Сократу и Платону наделять созерцаемое безусловным бытием и даже бытием бытия – вплоть до головокружительного погружения в сверхсущее Благо. Аполлонизм основан на достоверности созерцания образцов, парадигм, причем с такой яркостью, отчетливостью и достоверностью, что ни малейших сомнений в бытии, причем, высшего качества, созерцаемых объектов не остается. По сравнению с той убедительностью, с которой платоник видит идеи, образы мира феноменального представляются ему тусклыми и бесплотными призраками, чье бытие двусмысленно, смутно и требует доказательств. Боги платонику ближе, чем люди; Небо – ближе, чем Земля. Для платоника видеть и быть -- одно и то же; θεωρείν, созерцать -- значит получать самое достоверное доказательство бытия того, что созерцаемо. Поэтому онтология аполлонического Логоса сводится к факту наблюдения световых идей. Горизонт Неба достаточен для того, чтобы убедиться в бытии того, что на этом Небе можно различить. Иными словами, то, что видимо, уже в силу этого факта есть, а то, что видимо умом – есть вдвойне. Эйдос (είδος) --дословно, «видимое». Когда платоник фиксирует то, что он видит, это то же самое, что он удостоверяет, что это есть. Эйдос мыслится здесь как последний онтологический аргумент. Эта самодостаточная онтология эйдоса и лежит в основании теории идей. Идея есть эйдос, чье бытие тождественно факту его видимости, его созерцаемости, его теоретичности.
Аристотель ставит под сомнение такой философский жест, базовый для платонизма. Быть и видеть -- для него разные вещи[2]. И это главное в феноменологии. Помимо эйдетичности Аристотель требует присутствия в феномене чего-то еще. Одной эйдетичности для него недостаточно. Значит, базовым опытом в его философствовании является не платоническое созерцание (θεωρείν), но какой-то инойспособ восприятия мира и расположенных в нем вещей, стихий, существ и явлений. К определению этого «чего-то еще» и сводится аристотелевская метафизика. Эта метафизика глубоко феноменологична в том смысле, что феномен, φαινόμενον, есть явление в более общем измерении, нежели эйдетичность. Зрение не включает в себя все остальные формы чувственности и тем самым предполагает наличие некоторой всечувственной матрицы, sensorium, παναἴσθησις. Явь, явление, φαινόμενον не исчерпывается светом (вопреки этимологии слова “φαινόμενον” от слова φῶς, “свет”, полностью принятой платонизмом). Оно является более полным способом, и Аристотель пытается понять, каким именно.
Так Аристотель выделяет в вещи форму и материю, μορφή и ὕλη. Форма – это то, что мы видим. Она близка к тому, что обозначает слово эйдос. Форма говорит о вещи, чтоона такое -- τὸ τί ἦν εἶναι[3]. Здесь акцент падает на τί, “что, quidditas. Эйдос делает вещь тем, чтоона есть. Но… не он делает вещь сущей. Для того, чтобы вещь была, необходимо нечто помимо формы, помимо ее эйдоса. В этом принципиальное отличие Аристотеля от платонизма. Да, без эйдоса вещь будет ничем, следовательно, эйдос соучаствует в вещи, причем именно к нему сводится все то содержательное, что мы можем сказать о вещи, и если отбросить форму, то вещь будет не чем-то, а ничем. Поэтому и сказать, что она есть, нельзя. Однако и одной формы недостаточно, чтобы вещь была. Чтобы вещь была, нужна форма и что-то еще. Аристотель называет это «еще» материей.
Для Платона ничего, кроме эйдоса, не нужно. Эйдос развертывает себя сам. Эйдос дает вещи и форму, и бытие. Поэтому аналог материи у Платона, «хора» (χὼρα), о которой говорится в «Тимее», ничего не добавляет к феноменальной вещи, кроме свойства «плотности», и это никак не затрагивает бытия вещи, а лишь подчеркивает, что там, где у вещи есть плотность, «пространственность», мы имеем дело с миром копий, феноменов, а не с миром образцов, парадигм, идей. Для Платона «пространственность» есть акциденция эйдоса, признак отношения к зоне копий, к полю демиургии. Эта пространственность не участвует в бытии вещи, но лишь в способе бытия. Бытие же полностью пребывает в эйдосе: ясно -- в умозрительном эйдосе, смутно – в эйдосе, помещенном в «хору».
Аристотелю это неочевидно. Его опыт яви не удовлетворяется опытом образца. Для Аристотеля материя, «древесина», ὕλη, приобретает онтологический смысл. Она становится фундаментальной составляющей бытия вещи. Форма делает вещь тем, чтоона есть, а материя придает ей свойство того, что она есть. Материя при этом лишена качеств, которые полностью сопряжены с эйдосом и помещены в него. Но она, тем не менее, как-то глубинно связана с подоплекой яви, наделена свойством онтологической возможности. Поэтому материя есть ὑποκείμενον, под-лежащее, то, что лежит «под» (эйдосом, формой).
Строго говоря, вещь есть только тогда, когда форма и материя встречаются друг с другом: эйдос дает вещи содержание, материя – наличие (бытие). Следовательно, феномен, явь всегда есть эйдетическое и материальное одновременно.
Здесь мы подходим к существенному моменту. Форма и материя не обладают самостоятельным бытием до того, как они проявляются в вещи. Они суть два противоположных горизонта вещи, не существующие отдельно от вещи. Поэтому феномен оказывается первичнее формы и материи. Вначале есть феномен, опыт феномена, а потом его «чтойность» и его «подлежащесть». В этом суть дионисийской позиции философии Аристотеля: он начинает ни с того, что вверху (идея), ни с того, что внизу (материя), а с того, что между. И это «между» мыслится как первичная отправная точка. Мир икон, копий больше не демиургический сгусток самодостаточного парадигмального света, но мир живых вещей, область «великого даймона», который ставит себя в центр, а небесные идеи и нижние структуры материальности полагает своими вертикальными пределами. Феномен есть тот, кто есть, и как таковой он первичен по сравнению с тем, что может быть рассмотрено как два его горизонта.
Следовательно, мы имеем дело здесь с радикально новой (в сравнении с платонической, аполлонической) онтологией, с феноменологической онтологией. Если светлый Логос строится сверху вниз и останавливается, достигая уровня тел, чтобы немедленно стрелой возвращаться обратно, на небесную Родину, то темный Логос строится из середины, прочерчивая два луча, уходящие в неопределенный верх и в неопределенный низ, ставя в центр феномен, а не идею. Аристотель строит именно такую философию: его форма отличается от эйдоса Платона (от идеи) тем, что не обладает автономным бытием, поэтому форма не есть, строго говоря, нечто самостоятельное, это лишь никогда не достижимый верхний предел. Материя же в отличие от платоновской «хоры» наделяется неопределенным (потенциальным, силовым, динамическим)бытием, становится подлежащим, но таким подлежащим, которое постоянно ускользает от фиксирующего взгляда философа. Поэтому форма и материя (в отличие от аполлонического эйдоса) не даны сами по себе, а экзистируют через другое, что является феноменом, явлением. Феномен же есть центральная данность.
Учение Аристотеля о категориях[4]развивает эту промежуточную (дионисийскую) топику. Самое важное, что все категории описывают именно феномен как нечто неразложимое само по себе, но вместе с тем подлежащее логическому анализу. Аристотель при это настаивает на том, что все свойства явления должны выводится из него самого, а не из какого-то другого феномена, так как в противном случае феномен перестанет быть началом и превратится в следствие (что равнозначно возврату к платонической топике оригиналов и копий). Поэтому Аристотель отрицает два главных рода «Тимея» -- отеческий род парадигм и материнский род «пространства», «хоры». Первой и единственной данностью для Аристотеля является промежуточный мир, который Платон в «Тимее» связывает с фигурой Сына. Но, если у сына нет ни Отца, ни Матери, он перестает быть Сыном в полном смысле слова, оставаясь при этом свежим, молодым и полным сил, живым воплощением юности и творящего могущества.
Сущность категория категорий
Среди 10-ти категорий не все равноправны. Первая категория, οὐσία[5],стоит особняком, так как определяет факт наличия конкретной вещи, причем именно этойвещи, а не иной[6]. Аристотель в некоторых текстах различает πρώτη ουσία и δεύτερη ουσία. В этом случае πρώτη ουσία означает бытие конкретной вещи, а δεύτερη ουσία – ее принадлежность к тому или иному классу, виду, то есть ее эйдетическую природу. Ведь если мы не знаем о вещи ничего относительно ее видовой принадлежности, то мы не знаем, что она такое, поскольку «что» определяется через класс. В этом смысле δεύτερη ουσία может рассматриваться как синоним эйдоса, как quidditas, «чтойность» вещи[7]. Гораздо сложнее обстоит дело с πρώτη ουσία. Под ней Аристотель понимает саму конкретную вещь в ее прямом феноменальном наличии, в ее явленности. И чрезвычайно показателен тот факт, что здесь Аристотель использует слово, представляющее собой активное причастие настоящего времени женского рода (имеющее в греческом, равно как в церковно-славянском, оттенок собирательности, обобщения) от глагола «быть», είμι, είναι. πρώτη ουσία есть фактичность вещи, предшествующая ее разделению на форму и материю, а равно и фиксации в ней остальных девяти категорий. πρώτη ουσία – вещь сама по себе, в своей сути, сущности, существе. Поэтому этот термин переводят как «сущность», немецкое Wesen. Но в отличие от δεύτερη ουσία (второй сущности) πρώτη ουσία (первая сущность или просто сущность) содержит в себе материальность, которая у Аристотеля наделена признаком рассеянного и невнятного, но бытия. Поэтому ее в некоторых случаях на латинский переводили как sub-stantia, то есть дословно «находящееся под». Прямым греческим аналогом термина substantia будет, однако, ὕλη (“лежащее под”, “под-лежащее”) и ὑπόστασις (“стоящее под”, “под-ставленное”). Так как πρώτη ουσία выступает основой, к которой прикладываются остальные категории, то ее также можно трактовать как то, что лежит под всеми остальными свойствами, что частично оправдывает наименование «субстанции», «стоящего под». Однако, строго говоря, ни тот, ни другой термин не исчерпывают аристотелевского смысла πρώτη ουσία или просто ουσία. Ουσία есть фундаментальное понятие всей дионисийской топики и должно быть осмыслено не через верх (δεύτερη ουσία, эйдос, форму, quidditas)и не через низ (материя, ὕλη, substantia), но само через себя, как центральная точка, испускающая лучи во все стороны, и пребывающая всегда между, μεταξύ.
Все остальные категории Аристотель выводит из ουσία. Они суть моменты ее развертывания. И снова они приданы ουσία извне, но представляют ее акциденции, συμβεβηκός, вторичные стороны, предикаты.В изначальном смысле аристотелевские категории, скорее всего, обозначали нечто аналогичное экзистенциалам Хайдеггера или ноэме Брентано/Гуссерля; они представляли собой не агломерацию различных вещей, собранных воедино, но расходящиеся звездоподобными лучами продолжения живого центра, ουσία. Категории -- вибрирующие потоки жизни, а не анатомическиенадрезы и сечения наблюдающего извне рассудка. Категории не свойства ума, рассматривающего вещь, но свойства самой вещи, конфигурации и тональности ее внутреннего самодвижимого бытия. Как рациональные проекции категории были перетолкованы намного позднее, поскольку даже стоики, существенно исказившие философию самого Аристотеля, все же рассматривали Логосы как нечто, что принадлежит самим вещам, а не внешнему человеческому наблюдателю. Представление о рассудке, выносящем свои суждения о вещи, по-настоящему могло сложиться лишь в номинализме и получить полноценное развитие в философии Нового времени. Чтобы понять Аристотеля корректно, мы должны обойти эти интерпретации и дойти до самых близких к нему орбит, стараясь прорваться сквозь толкования и схоластов, и стоиков, и перипатетиков.
Рассмотрим кратко остальные 9 категорий.
Сущностное число
Вторая категория представляет собой ответ на вопрос сколько, ποσόν? Это количество[8]. Однако при видимой простоте вопроса и ответа все обстоит несколько сложнее. Во-первых, раз мы говорим обουσία как о том, к чему прикладываются остальные категории, мы заведомо подразумеваем, что речь идет о чем-то единственном, сингулярном. Если мы возьмем два или более предмета, то нам придется их разделить на столько частей, сколько возможно без нарушения их жизни и целостности, их бытия. Поэтому два коня или три розы не могут рассматриваться в качестве явления и, соответственно, как общая πρώτη ουσία. Один конь есть πρώτη ουσία, и одна роза. Один конь и есть конь, а одна роза – роза. Как только мы рассматриваем два и более явления, относящихся к общему виду, мы имеем дело с δεύτερη ουσία, эйдетическим единством. Если берем несколько разных вещей, то будет несколько δεύτερη ουσία и несколько πρώτη ουσία, то все это подлежит делению на более мелкие единицы. Значит, количество,ποσόν, есть ответ на иной вопрос, нежели – сколько коней или сколько роз? Сколько коней или роз – во второй категории ясно, один конь и одна роза. К чему же тогда прикладывается “сколько”?
Подсказку дает нам пример самого Аристотеля из «Категорий», где он в качестве примера второй категории приводит выражения – «четырехногий» или «пятиногий». Это важно. Нога у четырехногого животного не представляет собой самостоятельного феномена, она не способна жить самостоятельно, в отрыве от всего организма. Ее отдельность есть «намеченность» отделения, а не само «отделение». Намеченность снимается возвращением к цельности живого существа или полноценной функциональности предмета (ведь пифия не могла бы сидеть на двуногом треножнике). Поэтому «сколько?» должно входить в явление таким образом, чтобы, поддаваясь счету, не приводить к гибели вещи или ее мутиляции. Число как деление должно отвечать главному требованию -- совместимости с жизнью целого. Поэтому феномен для Аристотеля – целое, и πρώτη ουσία – всегда сингулярна.
Здесь снова можно вспомнить о том, что мы имеем дело с живой топикой Диониса. Разорванность Диониса титанами есть введение числа в явление. Но спасение Афиной сердца Диониса есть сохранение его сущности, его πρώτη ουσία. Дионис, даже будучи разорванным, не теряет своей цельности, своего бытия, своей жизни. Он умирает, расходясь на множество (количество), но это количество его не разъединяет необратимо, так как он воскресает, возвращается снова и снова; разделяясь, он только триумфально утверждает свою целостность. Значит, это разделение в нем и смерть от рук титанов лишь намечены: они возможны и прочерчены пунктиром, но снова опрокинуты в жизнеутверждающую целостность. Титаны не могут покончить с Дионисом, снять его единство. πρώτη ουσία всегда остается той же и неизменной, однако, присутствие этого бога есть именно явление, эпифания, επιφάνεια,феномен, φαινόμενον (оба слова однокоренные от φαίνεσθαι, являться). Дионис является, он есть парадигма явления. Поэтому в дионисийском мире все вещи мыслятся по аналогии с ним, они тоже являются. Вопрос «сколько?», ποσόν,их расчленяет, но не до конца. Мы видим, что у собаки четыре ноги, но прежде всего мы видим саму собаку. Четыре ноги – это выявление наружу ее внутреннего числа, живого числа ее феноменологического присутствия. Собака не собирается из четырех ног или каких-то иных органов, взятых по отдельности. Ее бытие определяется не агломерацией частей, но и не идеей, δεύτερη ουσία. Ее бытие как цельной, живой собаки есть явление (πρώτη ουσία), предшествующее частям, извлекающее из себя (не необратимо) эти части. Мы можем зафиксировать это внутреннее число явления, но всегда должны помнить, что ποσόν не есть ни сложение, ни дробь. Число явления -- это живое число, намеченное и сопряженное с самой сущностью, обращающееся снова и снова к ее онтологической цельности. Это сущностное число.
В платонизме есть особая онтология чисел, продолжающая в целом пифагорейские теории. Бытие чисел располагается между идеями и вещами, между образцами и копиями и является инструментами демиургии по преимуществу. Введение числа позволяет демиургу организовывать мир таким образом, чтобы он был построен по подобию и одновременно по неподобию с миром идей. Число объединяет и разделяет и поэтому любое число мыслится в первую очередь как диада, и далее как ее развитие (четные числа) или преодоление (нечетные числа). Четные числа ответственны за неподобие копий оригиналам, нечетные – за подобие; каждое нечетное число есть копия + оригинал, диада (копия) + монада(оригинал).
Аристотелю необходимо уйти от такого понимания числа, связанного с фундаментальной аполлонической топикой оригинал-копия. Поэтому Аристотель полагает число не на границе между вещью и идеей, между πρώτη ουσία и δεύτερη ουσία, но в саму вещь. Число не инструмент демиургии, но жизненная игра внутренних свойств – второстепенных по отношению к ουσία, но тем не менее важных для полноты эпифании. Числа не существуют сами по себе (в отличие от платонизма). Они существуют вместе с вещью, как ее жизненная плазмация, как ее выражение, как ее изъ-явление (ἀπόφανσις). Можно назвать такое аристотелевское число – апофантическим, от-талкиваясь (ἀπό-) отяв-ления (-φανσις) оно способствует его явлению, но никогда не отрывается до конца, то есть не складывает и не дробит.
Бытие в отношении
Третьей категорией является отношение[9]. Аристотель связывает ее с вопросом к чему, πρός τι? Здесь явление обращается к другому, нежели оно само. А значит, оно отворачивается от самого себя, намечает перспективу выхода за свои пределы. Очень важно обратить внимание на фундаментальное различие между греческим πρός τι и латинским relatio, отношение, откуда релятивность, относительность. Латинский термин предполагает изначально два или больше предметов, между которыми устанавливаются какие-то отношения. Но в греческом πρός τι (равно как и в русском «отнесенность», «отношение», «относительность») не подразумевается наличие двух, а вся модель строится, отталкиваясь только от одного, единого, целого, живого. Ουσία сама по себе поворачивается к… Но поворот к… еще не означает онтологической или даже онтической достоверности наличия того, к чему сущность обращена. Сущность поворачивается к тому, что не есть она, изъ-являет намерение направиться из себя. Но это не более, чем намерение, интенция, интенциональность. Она пока только от-носит себя в направлении от себя, но еще никак не со-от-носит себя с чем-то данным вовне. Через πρός τι явление подготавливает место для τι, для чего-то, но это не значит, что это что-то уже на самом деле имеется в наличии.
Снова мы имеем дело с «апофантикой», изъ-явлением, изъ-явительностью явления, его сущности. Сущность изъ-являет свою волю быть отнесенной к чему-то, то есть к чему-то другому, нежели она сама. Феноменологически это и есть конституирование другого, причем, точнее, намерение конституировать другого, воля к его бытию по ту сторону от себя.
Можно привести здесь греческий термин πρόσωπον, дословно «личность», «личина», «маска». В нем можно выделить интересующее нас πρός и ὄψις, “взгляд”, “вид”. Сущность, относясь к…, обращая свой взгляд от…, приобретает статус личности, и одновременно, конструирует то, к чему она относится, в другую «личность», порождая зеркальный дубль. Так рождается внешнее число, диада, которая совершенно отлична онтологически от количества, рассматриваемого во второй категории. Однако, «рождается» не означает «родилась»: πρόςне более, чем подготовка, перенос внимания с себя, на не-себя, поэтому внешнего количества еще нет, другой не появляется в полной мере, он готовится появиться. Другой еще только ноэма, мерцающая на границе внутреннего и внешнего, и само внешнее, έξω, только еще намеревается состояться. Однако личность уже есть, так как «личность» это «обращение взгляда к…», где, по всей вероятности, взгляд встретит свое зеркальное отображение – более или менее чистое. Здесь снова классическая игра Диониса: он обращается к…, к своим последователям, пробуждая в них ответное волнение, но застывает на грани, никогда не переходит заветной черты, и на этой линии, встречи человека с богом разжигает священное неистовство. Эпифания – это движение от… к…, но в отличие от аполлонической топики, здесь все происходит не вдоль вертикальной оси, но в кругах горизонтальных циклов, экстатических волн, итераций смерти и воскресения.
Как-бытие
Четвертая категория – категория качества, ответ на вопрос «как», ποιόν?[10]В пример Аристотель приводит качественные определения “белый”, “грамматический”. Так как Аристотель не признает самостоятельное бытие эйдосов, то и категория качества, строго говоря, должна мыслиться практически так же, как предлагают осмыслять уровень ноэзиса феноменологи (Брентано). В отличие от механических действий, когда забор можно покрасить белой краской в белый цвет и мы получим белый забор, на уровне эпифанической онтологии не существует отдельно забора и отдельно белой краски. Мы имеем сразу эпифаническую сущность: the rose-being-white. Как и в случае с количеством, белизна розы есть свойство ее πρώτη ουσία. Как количество во второй категории выводилось из бытия явления, таким же образом обстоит дело и с качеством. Здесь также вполне уместно прилагательное «апофантический», то есть сочетание «апофантическое качество». Своей белизной роза изъ-являет свою феноменологическую сущность. Особенно ярко это видно на примере «белого лебедя» -- классические греки считали, что лебедей другого цвета не бывает. Поэтому «белый» есть изъявление бытия лебедя. Так как лебедь – птица Аполлона, то и его качества (белизна, крылатость, красота, грациозность) выражают постоянные солярные стороны его божественной сущности. Другие вещи могут иметь разную окраску: это свидетельствует не о том, что существуют цвета сами по себе, но о том, что их сущность более гибкая и подвижная, как природа самого Диониса, способного представать и как юноша, и как старик, и как младенец, и как бык, и как козел, и как виноградная гроздь, и как ядовитый плющ, и как тигр, и как тирс, и как зов, и как безумие, и как пронзительное чувство присутствия бога.
Феноменологическая сущность всегда несет в себе как-бытие, фиксированное или подвижное – в зависимости от того, с каким конкретно явлением мы имеем дело.
Самое важное для понимания категорий Аристотеля и, в частности, для понимания качества, заключается в том, чтобы вывести свойства вещи из ее бытия. Вывести и при необходимости завести обратно, в изначальную и изначально многоцветную цельность.
Пространство цели
Переходя к пятой категории, категории места, отвечающей на вопрос ποῦ, «где?», мы можем рассчитывать на большую проработанность темы[11], так как истолкованию своего понимания места Аристотель уделил повышенное внимание, когда подвергал критике платоновское понимание «хоры» (пространства, материи)[12]. С точки зрения Аристотеля, «хоры» точно так же не существует, как не существует эйдосов, идей. Тело, точнее, телесный феномен, движется не в пространстве, как в чем-то внеположном ему и существующем самобытно и самодостаточно вне зависимости от наличия явления, и не по пространству, остающемуся неизменным. До тела и вне тела пространства нет. Поэтому Аристотель вообще отвергает понятие χώρα, пространство, и вводит вместо него понятие τόπος, место. Место, τόπος, по Аристотелю, есть свойство тела, которое оно проявляет в ходе движения (или покоя). Место, поэтому, имеет самостоятельный смысл, напрямую связанный с явлением и его сущностью, πρώτη ουσία. Отсюда знаменитая теория Аристотеля о «естественных местах», изложенная в его «Физике»[13]. Каждая вещь имеет в самой себе свою цель, которая воплощена в «естественном месте», и эту цель вещь несет в себе самой, так как она есть аспект ее сущности (энтелехия, ἐντελέχεια). «Естественное место» это собственное место вещи, когда ее сущность пребывает в полном самотождестве сама с собой. Но вещи находятся не на своих местах. То есть, их место-пребывание отличается от того, которое являлось бы для них естественным. Отсюда возникает движение. Это движение есть развертывание энтелехии в направлении «естественного места», «сущностного места». Пока вещь находится в пути, она, двигаясь к цели, конституирует сам путь, делает каждый момент пути местом, τόπος. Но место, τόπος, не существует отдельно от движущейся вещи, так как оно есть результат ее пребывания в движении к самой себе. И на этом пути вещь организует собственную пространственность, которая снимается в тот же момент, как вещь покидает то место, в котором она находилась мгновение назад. Почему же пространство не исчезает? Потому, что его тут же занимает иная вещь, которая, в свою очередь, движется к своей цели.
Пространство Аристотеля, таким образом, есть являющееся пространство, которое развертывается изнутри вещи, как выражение ее сущности, ουσία. «Где» вещи, ποῦ измеряется не просто фактом ее нахождения «в Лицее» или «на рынке», но степенью удаленности (или близости) к ее «естественному месту», к цели ее движения. Такое пространство имеет самое прямое отношение к сущности, а следовательно, является сущностным пространством. Таким образом, мир превращается в мир пространственных явлений, организующих свое движение к «естественным местам» по внутренней логике. По Аристотелю, небесные тела вращаются вокруг своих «естественных мест», создавая круговые пространственные траектории. В подлунном мире мы имеем дело с отрезками и кривыми, не замкнутыми в цикл, представляющими собой более хаотическое и фрагментированное движение, расчлененные части кругов и окружностей. Феноменологическая траектория ткет непрерывную структуру живых мест -- непрерывную потому, что телами наполнен мир, волнующийся по своим циклическим каденциям и движущийся к своему телосу.
Только одно сущее находится на своем «естественном месте» -- «недвижимый двигатель» (κίνησις ακίνητος), называемый Аристотелем «богом». Бог есть такая сущность, которая полностью вернулась к самой себе и утвердилась в самой себе, а, может быть, и не выходила никогда за свои пределы. В ней πρώτη ουσία и δεύτερη ουσία оказываются строго тождественными, поэтому она есть сингулярность вида. Но так как сущность, по Аристотелю, обязательно дает себя в явлении, значит, и «бог» должен обладать феноменальным измерением. Эта феноменальность «бога» проявляется в том, что он движет все остальное, выступая как наиболее сущностное во всех вещах и, соответственно, двигающее все вещи к их сущности.
Однако здесь может открыться вопрос: возможно ли бытие формы форм в дионисийской топике «темного Логоса» наряду с другими феноменами, в которых необходимым компонентом является фиксация рассеянной косвенной онтологии, данной в материи? Такое признание было бы равносильно признанию автономного бытия эйдоса, с отрицания которого Аристотель начинает построение своей философии. Поэтому мы должны либо признать наличие в «боге» материального начала (такой вывод сделали стоики), либо допустить для «недвижимого двигателя» какую-то особую форму бытия. Мы склоняемся ко второму решению. «Бог» Аристотеля в таком случае предстанет не феноменом наряду с другими, но самым крайним горизонтом феноменального мира, пределом, линией, которую можно увидеть, но которой невозможно достичь.
Секрет «естественного места» в том, что его эффективно невозможно достичь, его просто нет, и поэтому все вещи находятся в непрерывном движении – либо круговом (небесные вещи), либо фрагментарном. Поэтому всякое место не естественно, оно есть след отчаянных попыток вещей достичь самой своей сущности в чистом виде. Эти попытки глубоко трагичны и драматичны. Это своего рода мистерия: вещи тянутся к богу, стремятся сложиться в сущность сущностей, и движимы они к этому не внешними силами, а внутренней страстной экстатической тоской. Поэтому пространство несет на себе печать ностальгии вещей по их чистой сущности: любой τόπος есть след тоски, которая составляет внутреннюю структуру любого жизненного пейзажа.
Вещь ищет себя, и поэтому она «находится» в каком-то месте, но любое место есть вместе с тем всегда не то место. Поэтому вещь не столько находит-ся там-то и там-то, сколько ищет-ся. И никогда не находится по-настоящему. Поэтому все живет тревожной жизнью и проникнуто тонкой ностальгией: эта жизнь и эта ностальгия составляют экзистенциальный фон пространства.
Личное время
У Аристотеля вторичность пространства, места по отношению к феноменологии тела описана предельно отчетливо.
Самостоятельность χώρα отрицается эксплицитно, а зависимость τόποςот тела, напротив, эксплицитно утверждается. Следуя общему строю философии Аристотеля, мы могли бы ожидать чего-то подобного и при разборе следующей, шестой категории -- категории времени, отвечающей на вопрос «когда», πότε? Было бы симметрично после отвержения платоновского пространства отбросить платоновскую (аполлоническую) вечность. И действительно, Аристотель не использует платоновское выражение αἰών, вечность, и оперирует с двумя понятиями: ἀεί, “всегда” и χρόνος, “время”[14]. Вечность как признак бытия парадигм отвергается вместе с парадигмами. Поэтому аристотелевский мир знает только постоянное изменение, в котором выделяются изменяемое (помещенное в изменение, оно предстает как нечто временное) и то, в чемизменяется изменяемое (оно есть всегда, но всегда как непрерывность изменения, а не фиксированность постоянства).
Аристотель определяет время как меру движения. Это в высшей степени показательно. Движение есть движение сущности к своему естественному месту, то есть к самой себе (энтелехия). Таким образом, движение есть сущностный процесс, проникнутый глубинным смыслом. По мере развертывания движения вещь конституирует пространственность своей траектории (цепь промежуточных, «неестественных», мест). Но естественное место, как мы видели, недостижимо. Финальность, τέλος, есть сама сущность в ее чистом виде, поэтому она скорее является вне себя, в движении к себе, нежели в самой себе, так как, достигнув самой себя, она станет «богом» и перестанет двигаться, начав двигать. Если бы вещи имели такую перспективу, то рано или поздно «обожились» и движение закончилось бы. Вместе с ним закончилось бы и явление. Добравшись до своих естественных мест, вещи осуществили бы конец света. Но для Аристотеля мир есть всегда, а следовательно, движение -- его неотъемлемое свойство. Поэтому у движения есть мера, μέτρο,которая отмеряет путь вещи к недостижимой цели, к ней самой. И здесь становится явным, что время Аристотеля -- такое же внутреннее и сущностное понятие, как и место. Время находится между сущностью и ею же самой. Сущность движется к себе самой всегда, но траектория этого движения заключена между началом вещи (рождением) и концом (смертью). Но так как движение к сущности есть всегда, то рождение и смерть (γένεσις и φθορά) замкнуты в циклἀεί. В небесных телах и движениях светил этот цикл эксплицитен, в подлунном мире – имплицитен. Зазор же между точкой начала и точкой конца (которая есть точка нового начала) составляет бытие времени. Как место, создаваемое движением, существует только в один момент, оставляя сзади себя нечто непространственное или пространственное, но относящееся к иному явлению, так и время, двигаясь от сущности к сущности, оставляет после мгновения темпоральный пар, относящийся к невремени или ко времени другого явления. Время, как и место, у Аристотеля феноменологично, оно принадлежит внутреннему измерению явления, его сущности. Поэтому надо полагать время явления не на шкале автономно существующего времени, но внутри волевых импульсов самой сущности, которая, будучи сущностью всегда, ἀεί, стремится к самой себе, и никогда не способна достичь самой себя. Время -- это мера расстояния между сущностью и сущностью, которое и есть движение. Поэтому вещи пребывают не во времени, но живут как время. Ведь время -- это явление сущности, направленное к самой сущности, а следовательно, относится именно к тому явлению, которое является. Это внутреннее дело самой вещи. Время вещи – это способ ее экзистирования.
Показательно, что в качестве примеров категории времени Аристотель в «Органоне» приводит две версии: «вчера»», «в прошлом году». Случайно ли оба примера относятся к прошлому? Почему на вопрос когда, он отвечает «раньше» -- либо недавно, либо достаточно давно. Прошлое -- это бывшее время, это время, которого уже нет, которое было упущено. Почему именно прошедшее время берется в качестве нормативного? Потому что все время и есть выражение неудачи, все время является прошедшим. На вопрос «когда?» в имманентной топике аристотелевской феноменологии есть только один ответ: «никогда». «Уже не». И даже если это пронзительное ощущение невозможности, несделанности, то есть неосуществленности и неосуществимости полного возврата сущности к самой себе, опрокинуть в будущее, результат будет таким же – только «уже не» превратится в «еще не», noch nicht, not yet. Есть только прошлое, но пульсирующее, трагичное, живое…
Ввести подлежащее
Седьмая категория сопряжена с понятием κεῖσθαι, дословно «положение». В «Категориях» Аристотель приводит такой пример: «нечто сидит, лежит»[15]. Довольно странная категория, вызывавшая всегда много нареканий и резко контрастирующая с почти очевидными и само собой разумеющимися остальными. Положение вещи, осмысляемое в этой категории, должно быть отлично от ее места, разбираемого в пятой категории. На первый взгляд, не очень понятно, зачем было вводить такой частный дубль – состояния, положения.
Мне представляется, что эта категория вводится с целью сконструировать термин ὑποκείμενον, то есть «подлежащее»[16]. «Подлежащее» играет огромную роль в философии Аристотеля. Оно возникает как онтологическое измерение феномена, как своего рода подкладка. «Подлежащее» может рассматриваться как то, над чем надстраиваются категории, то есть как основание сущности, не сама сущность, а именно ее онтическое основание, делающее ее именно πρώτη ουσία, а не δεύτερη ουσία. Над этой «подлежащей» основой надстраивается все остальное как ее развертывание, и это «остальное» становится в этом категориальном анализе «над-лежащим», ὑπερκείμενον. Кроме того, для Аристотеля важен и еще один термин, построенный на основе «κεῖσθαι» -- συγκείμενον, «соположение», «со-лежащее». «Со-лежащее» есть сущностный синтез, который соединяет сущность и сущность, то есть осуществляет замыкание (всегда не до конца осуществленное) начала и конца.
Явление может структурироваться таким образом:
ὑπερκείμενον – μορφή – δεύτερη ουσία
συγκείμενον - πρώτη ουσία
ὑποκείμενον - ὕλη
Таким образом, мы получаем три уровня вещи, причем средний уровень, сущность, мыслится как разомкнутая циркуляция от себя к себе с опорой на не-себя и под светом высшего эйдоса, в пределе (недостижимом) «бога».
Лев человеческий
Восьмая категория – обладание, связана с действием иметь, ἔχειν[17]. И к ней многие философы выдвигали претензии в смысле ее второстепенности. Аристотель приводит в отношении обладания довольно странные примеры: «иметь на себе обувь», «иметь на себе доспехи». Оба примера связаны с одеждой и могут быть поэтому соотнесены с привычной для афинян церемонией переодевания богини Паллады – ей подносили пеплос (платье), и считалось, что во время войны она переодевается в доспехи. Одевает доспехи, имеет доспехи на себе.
Если мы вспомним, к чему прикладываются категории, и насколько тесно сопряжены с сущностью, вытекая из нее, одежда или иные предметы обладания (хотя именно одежда является тем, что расположено ближе всего к телу, но им не является – остальные формы обладания находятся дальше), становится понятным, что и объект обладания должен вытекать из сущности. То есть то, что принадлежит вещи, есть не другое, но то же самое, что и она, только в наиболее поверхностном ее срезе. Ведь если бы это было что-то по-настоящему другое, то оно было бы иной вещью и тогда ее следовало бы рассматривать отдельно. Иными словами, мы вышли бы за границы феноменологического анализа. Поэтому как категорию πρός τι следует помещать на границе с другим, но не за этой границей, так и обладание, ἔχειν, должно размещаться на самой границе между сущностью и тем, что вне ее – подобно одежде или доспехам. Платье, ботинки и доспехи не являются полноценными явлениями – они либо являются частью того, кто их носит, либо символически замещают его. Такое понимание обладания очень важно: это не отношения между двумя, но отношения между одним и его границей.
Аристотель дает знаменитое определение человека с использованием именно этой категории: ζώον λόγον έχον[18]. Обычно внимание привлекает либо ζώον, либо λόγος, но никак не έχον. В латыни же вообще в animalis rationalis обладание, έχον, исчезает. Но быть может, в этом отношении обладания и состоит сущность человеческого. Животное ζώον здесь не совсем зверь, θηρίον. Скорее нечто живое, наделенное подвижной, оторванной от почвы душой (в отличии от фито-души растений). Движение же, как мы уже видели, есть движение от сущности к сущности. Животное спешит туда стремительнее и настойчивее растений и камней. Поэтому интенсивность его жизни выше. Благородная часть животной души греками описывалась символом льва. Лев – еще животное, но уже царь. Поэтому едва ли любое животное способно обладать Логосом. Поэтому вполне уместно было бы уточнить: λέωνλόγον έχον. Что такое Логос, λόγος, требует отдельного обстоятельного исследования, и мы проделаем его в отдельной главе, посвященной философии Плотина. Пока же можно сказать, что это разумное начало. Лев относится к разумному началу через категорию имения. То есть разумное начало становится одеждой и доспехами льва. В этом случае это лев человеческий.
Теоретически можно поменять местами λόγος и ζώον, и составить формулу так: λόγος ζωὸνέχον. Эта формула описывала бы в панлогической Вселенной Аристотеля всех живых существ, наделенных душой, так как Логос управляет всем, а следовательно, имеет всех как свою периферию. Но человек находится в особых отношениях с Логосом (разумом, словом, мыслью, речью). Он не на периферии Логоса, он не является его хитоном, но Логос является границей человека. Отношения преревернуты, структура обладания, ἔχειν, оказывается обратной. Царь-человек (лев-человек) в его сущности стоит над Логосом, над разумом. И именно в этом его особенность и его онтологическая специфика. В этом его сущность. А значит, возврат сущности к самой себе у человека проходит по сценарию разума, тогда как в других живых существах, возврат Логоса к Логосу осуществляется при посредстве их звериных или растительных душ. Человек обладает Логосом как пространственно-временным, личностным путем к самому себе. Возможно, в этом секрет дионисийской антропологии: разум в ней -- инструмент эпифании, циклически возвращающийся к сущности, возвращающий человека к его живому сердцу, к точке Диониса в его пронизанной парами титанического сущности.
Действие как катастрофа
Девятая категория – действие, ποιεῖν[19]. Примеры действия, приводимые самим Аристотелем, как всегда показательны: резать и жечь. Действие -- всегда нечто разрушительное, нападающее, атакующее. Вот здесь впервые мы сталкиваемся с выходом явления за свои границы. Действие, созидание, творение есть максимальное удаление от сущности. Действие уже не застывает на границе, но прорывается за ее пределы. Пока еще оно не сталкивается с другим, но уже оказывается в ситуации, когда такое столкновение становится возможным. Действие – это язык пламени, вырвавшегося за пределы циклически замкнутой сущности, рассечение, разрезание внутреннего, шаг за…
В действии мы впервые имеем дело с реальным отчуждением явления от самого себя, с его выплескиванием за свои естественные формы, то есть с деформацией и разрушением (в первую очередь) себя и других. Это активность сущности создающей нечто, полностью отдельное от нее самой. Все предыдущие категории описывали структуры сущности и отходили от нее на критическую дистанцию, но внутри нее самой. Максимум, чего достигал вектор от…, это граница феномена, и застывал на ней. Действие преодолевает этот гипноз. По сути, именно действие является первым необратимым жестом явления, то есть началом гибели. В действии впервые появляется нечто, что не может быть реинтегрированным, снова включенным в целое. Действие делает границу из потенциальной актуальной и впервые конституирует не просто другое, но другое как не-сущность. Отчуждаясь, оно отчуждает сущность от самой себя на расстояние, превышающее критическое.
Основатель феноменологии Ф. Брентано тщательно исследовал тот момент в структурах мышления, когда ноэзис рывком переходит в логическое мышление, и ноэма превращается в эвиденциальный объект, находящийся строго за пределом внутреннего мира мыслящего. Этот момент – действие. Хайдеггер назовет его позже “Gestell” и “Machenschaft”[20]. В своих экзистенциальных основаниях действие вызывается “волей к проекции”, “проекту”, Entwurf.
Действие загадочно в своих основаниях. Это бросок за пределы повторимости, попытка события, желание разорвать череды сущностного вращения во всегда отчужденном времени «еще нет» (или «уже нет»). Действие направлено на то, чтобы достичь цели, не достижимой в автономном режиме циклических эпифаний/апофаний. Действие хочет опыта «бога», который невозможен в силу недостижимости эйдетического горизонта в структуре «темного Логоса». Поэтому, не в силах обрести желаемой цели, полностью реализовать томление энтелехии и добраться до «естественного места», действие оказывается обреченным на падение, на выпадение из сущности. И тем самым оно становится разомкнутым концом круговращения и причиной падения в низ, в сторону нижнего предела. Тем самым действие, произведение, создание, искусство становится фундаментом деструкции и основой конечности. Желая достичь недостижимого, действие делает недостижимым имеющееся, утрачивает то отношение к сущности, которое было доступно и гарантировано, пока не началось «творение». В акте творения, ποιεῖν, не просто создается нечто бездушное, не саможизненное (αυτοζώον) и не самодвижимое. Не только творимая тварь заведомо конституируется по ту сторону сущности, но и само творящее начало, перед лицом творимой твари, зеркально получает ответный удар отчуждения: выходя за свои пределы, оно убивает творимое и умирает само в процессе убийства, как нечто живое. Действие – это фундаментальная катастрофа. Девятая гипотеза размыкает круг Диониса и открывает ворота Тартара.
Такое понимание природы действия, творения, вероятно, лежит в основе отвержения Аристотелем платоновской теории демиургии и готовит философские основания для будущей гностической концепции «злого демиурга». Творение есть амбивалентное отчуждение: порождение отчужденного и представление творящего как аррогантной трансцендентности, закрывающей вещи путь назад, к ее истокам. Вещь и так, по Аристотелю, не может вернуться к своей сущности («обожиться»). А в случае отчуждающего процесса производства она получает наглядное и слишком контрастное доказательство этой невозможности. Естественная вещь обречена, но хочет достичь невозможного, а искусственная (сотворенная) тварь больше не хочет -- невозможность становится эксплицитной.
Физика как страдание
Последняя категория определяется как страсть или страдание, πάσχειν[21]. Примеры такой категории Аристотель приводит симметрично предшествующей, девятой: быть разрезанным, быть сожженным. Здесь явно читается намек на страсти самого Диониса, расчлененного и сваренного титанами.
То, что страдание было вынесено в десятую категорию означает, что она замыкает собой всю серию, является ее границей. На этом уровне сущность явления начинает претерпевать. Здесь и только здесь по-настоящему дает о себе знать телесность. И если девятая категория есть разрыв циклической цельности вещи вовне, то в десятой в саму вещь нечто врывается извне. Это категория катастрофы, ответной на действие, утвержденное в девятой категории. Действие мыслится от сущности вовне. Страдание извне направлено на сущность. Страдание это аффект, удар, боль, чья природа не вытекает из бытия явления, но привносится в явление чем-то, что само по себе этим явлением не является. Здесь мы имеем дело с другим, которое не просто намечено, но получило автономное существование. Так вещь познает страдание. Другой – это всегда в первую очередь боль. И продуцируемая другим боль зажигает сущность огнем, с которым она не может справиться: этот огонь – страсть. Страсть вызывается страданием.
Страдание в физике Аристотеля есть факт воздействия одного тела на другое. Это кульминация катастрофы. Одно тело, вырванное из небесного круговращения, тщетно спеша к своему «естественному месту», начинает двигаться хаотически, по кривым или сегментам. Тем самым ее движение отклоняется от структуры, предначертанной «недвижимым двигателем», энтелехия становится болезненным и сбитым с ориентации на цель влечением, в ходе развертывания которого тело производит мгновенные топологические траектории. Так как оно запуталось и находится не просто не там, где надо, но движется не по тому маршруту, по какому надо, оно становится деятельным, выходящим за структуры сущности. Такое заведомо аномальное явление подходит (через Machenschaft, Gestell, проекцию, производство) чрезмерно близко к другому. И действует на другое, конституируя другое как другое. И причиняет другому боль, толкает его, заставляет страдать. И отчасти страдает само. В столкновении между собой два явления, два тела получают травму. То, чье движение более стремительно и массивно, оказывается в положении действующего (творца, палача). То, что замешкалось или менее навязчиво, претерпевает воздействие. Это претерпевание воздействия и есть страдание.
Описанный процесс является основой для развертывания причинно-следственных связей. Греческое слово αίτια, причина, на церковно-славянском передавалось как «вина». Новый деривативный смысл слова вина, как факта совершения чего-то недолжного, преступного, безнравственного, несправедливого, не случаен. Причинение чего-то другому всегда есть вина. Когда тела сталкиваются друг с другом и изменяют тем самым свои траектории, они виноваты, или иными словами, они становится причинами изменения траектории и причиняют друг другу боль, заставляют страдать, πάσχειν. Движение в подлунном мире есть непрекращающееся производство и претерпевание, действие и страдание, то есть поле нескончаемой боли и страсти. Вещи должны были бы вращаться вокруг своей сущности. Но они рухнули вниз и стали толкаться друг с другом, осуществляя действия (все действия порочны с точки зрения сущности) и претерпевая их (расплата за причинение страдания другим). Поэтому у Анаксимандра «вещи судят друг друга». Это происходит потому, что все вещи виноваты, и две последние категории -- девятая и десятая -- и есть суд над вещами. Выходить за свои сущностные границы – преступление. И как таковое оно несет в себе страдание и вину. Физика Аристотеля глубоко трагична.
Мы рассмотрели десятую категорию с позиции воздействия вещи на вещь, явления на явление, тела на тело. Это вполне отвечает эксплицитным мыслям Аристотеля. Но есть еще один аспект его физики, который разобран им менее откровенно. Дело в том, что вся конструкция Аристотеля, выстроенная вокруг сущности и ее движения к самой себе, приходит в движение, наделяется определением «всегда», получает жизнь только потому, что онтологическим статусом обладает не только эйдос, но и материя. Необходимость материи и создает фундаментальную преграду. Не обладая бытием сама по себе, материя соучаствует в сущем как возможность быть. И этого достаточно, чтобы привнести в мир роковую безнадежность. Стоики позднее назовут это судьбой, ἓιμαρμένη. И если мы вернемся к истории Диониса, то вполне можем угадать имя этого начала – Титаны. Они разрывают бога Диониса, мифологический синоним сущности, заставляя его страдать. Именно материальность вещей заставляет их сбиваться со своих небесных категорий, падать, спускаться в ад. Аид похищает Кору, Персефону, дочь Деметры. Титаны убивают Диониса, забирая его искры с собой в глубины ада. Именно оттуда, из черного колодца Тартара, оба возвращаются в Элевсинских мистериях и оказываются восседающими на одном троне. Титаны заставляют Диониса страдать. Аид причиняет боль Коре и ее Матери, Деметре. Но… возможно, агрессия ада ответная… Может быть, сами титаны страдают. Эйдетический свет божественности причиняет им невыносимую боль. Материи плохо, страстно, страдательно. Она несет вещам страдание, примешиваясь к ним, потому, что страдает сама, потому что ее бытие в страдании, в лишенности бытия, в привации и недостатке.
В этом тайна дионисийского Логоса: он принимает страдание не просто пассивно, но амбивалентно: Дионис есть и жрец и жертва, и губитель и погубленный, и страдающий и причиняющий страдания, и обвиняющий (причиняющий) и обвиненный (отсюда, сюжет суда над богом, например, в “Вакханках” Еврипида).
Так, в десятой категории нам приоткрывается глубинная метафизика боли.
«Новый Дионис»
Одним из лучших произведений Аристотеля стала Империя его ученика Александра Македонского. Александр Македонский учился у Аристотеля в Миезе и, согласно Плутарху[22], не только получил от него наставления в открытых вопросах философии, но и был посвящен в тайные устные предания. Следуя нашей логике, Аристотель должен был посвятить юного царя в философию Диониса. И в преданиях об Александре Македонском тема Диониса проходит красной нитью сквозь всю его историю.
Начнем с того, что греки считали самого Александра воплощением Диониса, причем не метафорически, а буквально. Мать Александра -- Поликсена из Эпира, позднее получившая в таинствах, в которых она участвовала вместе с будущем мужем Филиппом, инициатическое имя «Миртала», а в замужестве за Филиппом Македонским ставшая «Олимпией». Она была царственной жрицей Диониса. В духе своего мистериального призвания она всегда была окружена змеями. По преданию, сам Зевс явился к ней, когда она спала под священным дубом, в виде огромного змея и в таком образе зачал Александра. Этот сюжет повторяет историю зачатия Диониса-Загрея от Персефоны. По другой версии Зевс соединился с ней во время дионисийской оргии. Плутарх приводит сведения, что уже в первую брачную ночь Филиппу было видение о грозе и молниях, в которых Зевс сошел на землю и соединился с его женой.
Миф о Дионисе прочно сочетался с Александром Великим, и согласно, историкам того времени, сам Александр настолько уверился в своей божественной дионисийской природе, что поставил своей целью воспроизвести в реальности подвиги Диониса. В частности, именно этим и объясняется его Индийский поход, поскольку считалось, что именно Дионис первым отправился войной в Индию и покорил ее в течение трех лет. Страбон приводит сведения о распространении культа Диониса в Индии (что может быть объяснено сходством некоторых сторон культа Диониса и индийского бога Шивы). Сам Александр относился к своей божественности весьма серьезным образом и приказал всем греческим полисам, а также народам завоеванных им стран чествовать себя как бога, и конкретно, как «Нового Диониса».
В древнем произведении «История Александра Великого» ряд сюжетов имеют глубоко символический характер: Дионис -- бог, спускающийся в Аид и поднимающийся на Олимп. Так и Александр спускается в глубину моря в стеклянном шаре и поднимается на птицах в небо. Он возводит при Каспии железную стену, чтобы сдержать за ее пределами хаотические орды Великой Скифии. В Индии он находит город, основанный во время похода самого Диониса им самим, и сохраняет, как «Новый Дионис» город, отказываясь от его штурма. Он же вступает в глубинные философские дебаты с брахманами. Основав Александрию Египетскую в Ливии, он объявляет себя прямым потоком Аммона-Ра.
Сама Империя Александра Великого, оказавшегося самым успешным греческим царем, объединившим под своим началом гигантские просторы Азии и Средиземноморья, была для греков политическим чудом. Это было царством сущности, построенным в соответствии с канонами идеального Государства, как его понимал Аристотель. Во главе – монарх-философ. В основании хаотическое многоцветное множество народов и культур, объединенных общей политической философией, основанной на разуме, категориальном анализе и представлении о глобальной энтелехии человечества, призванного совершать круговращательные ритуальные движения по кругу – с Запада на Восток и с Востока на Запад.
[1]Аристотель. Метафизика/Аристотель. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 1. М.: Мысль, 1976.
[2]Аристотель. Метафизика. Указ. соч. С. 86-91.
[3]Аристотель. Метафизика. Указ. соч. С. 157.
[4]Аристотель. Категории/ Аристотель. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 51-90.
[5]Аристотель. Метафизика. Указ. соч. С. 276.
[6]Аристотель. Категории. Указ. соч. С. 55-62.
[7]Аристотель. Метафизика. Указ. соч. С. 187, 191-197.
[8]Аристотель. Категории. Указ. соч. С. 62-66.
[9]Аристотель. Категории. Указ. соч. С. 66-72
[10]Аристотель. Категории. Указ. соч. С. 72-79.
[11]Аристотель. Физика/Аристотель. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 123-145.
[12]Аристотель. Физика. Указ. соч. С. 125-127.
[13]Аристотель. Физика. Указ. соч. С. 174-178.
[14]Аристотель. Физика. Указ. соч. С. 145-159.
[15] Аристотель. Категории. Указ. соч. С. 55.
[16]Аристотель. Категории. Указ. соч. С. 54.
[17]Аристотель. Категории. Указ. соч. С. 81-83, С. 90.
[18]Аристотель. Никомахова этика/ Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 75-76.
[19]Асритотель. Метафизика. Указ. соч. С. 244-247.
[20]Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Философия Другого Начала. Указ. соч.
[21]Аристотель. Метафизика. Указ. соч. С. 171.
[22]Плутарх. Избранные жизнеописания в 2-х томах. Том II. М.: Правда, 1990. С. 365-368.