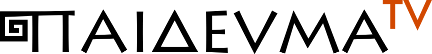Люди-медведи: диалектика перспектив
В работе современного бразильского антрополога Э.Вивейруша де Кастру «Каннибальские метафизики»[1] на основании анализа мифологии индейцев Южной Америки выдвигается гипотеза «перспективизма» и «мультинатурализма», согласно которой архаические племена всех существ и все вещи считают людьми, полностью гомологичными самим людям, но наделенным иной природой. Это соответствует устойчивым представлениям некоторых палеоазиатских культур, которые мы рассматриваем в «Ноомахии» -- прежде всего чукчам и эскимосам[2]. С помощью этой модели можно рассмотреть и русские сказки, отражающие народные представления о «цивилизации леса». Лесные звери (медведи, волки, лисы, зайцы и т.д.), духи и сказочные существа представляют собой особые культуры, общества которых выстроены вполне аналогично человеческим. Но только их «природа», то есть «телесность», «актуализированность» несколько отличается от человеческой – по крайней мере «человеческая перспектива», «жизненный мир» крестьянина организован таким образом, что не совпадает с «нечеловеческой» (точнее «иночеловеческой») перспективой лесных жителей. Люди видят людей-медведей как медведей, не замечая их «человечности» в силу инаковости перспективы.Вероятно, что и люди-медведи видят людей как каких-то существ, далеко не совпадающим с тем, как люди видят сами себя. На этой гомологии всеобщей человечности, составляющей основу архаического персонализма, основаны практики ликантропии и других форм оборотничества. Оборотень не превращается из человека в волка или медведя, он остается самим собой, но лишь меняет перспективу своей «человечности», «природу»[3].
В этом смысле цивилизация русского леса при всей оппозиции является постоянным участником крестьянского жизненного процесса: между миром людей и «немиром» «нелюдей» существует постоянная и интенсивная связь, цивилизационный обмен, проходящей на многообразных границах -- порогах, воротах, оградах, опушках, промежуточных пространствах (например, полях).
Русская сказка о вершках и корешках, повествующая о состязании мужика с медведем ярко иллюстрирует «перспективизм». Они вместят сеют репу, затем пшеницу. В обоих случаях мужик обманывает медведя, вначале предлагая ему вершки, а затем корешки, всякий раз беря себе наиболее ценную часть урожая. Здесь мужик выступает в роли титана Прометея, обманувшего богов в ходе жертвоприношения, отдав им шкуру и кости животного, а людям – мясо и жир. Но вся сказка в целом представляет собой важнейшую метафору границы, которой выступает поле. Медведь – «человек» цивилизации леса, мужик представляет русских людей, мир. Они встречаются на поле, которое располагается между деревней и лесом. И здесь метафора продолжается отношением к посевам и плодам: попытка разделить их чисто количественно – по принципу, что сверху, а что снизу – приводит «человека» цивилизации леса (медведя) к провалу, а хитрый мужик, владеющий знаниями аграрной «политики», при сохранении формальных правил, выигрывает, дополняя логический формализм риторической семантикой и оказываясь более гибким в интерпретации перспективизма. Обман удается человеку потому, что он – в данном случае – более человечный, а медведь – более лесной. Однако мужик показывает себя в целом не с лучшей стороны, и симпатии вполне могут быть на стороне доверчивого и простоватого «человека леса», строго соблюдающего договор и поэтому оказавшегося в материальном проигрыше, но в этическом выигрыше.
Среди других «людей леса» медведь занимает особое место, чаще всего он считается наиболее близким к человеку существом, отсюда его связь с границей. Иванов и Топоров замечают:
Противопоставление свой – чужой допускает такую интерпретацию, когда свой обозначает принадлежность к человеческому, а чужой — принадлежность к нечеловеческому, звериному, колдовскому. При этой интерпретации второй член чужой воплощается в существах, которые понимаются как человеческо-животные гибриды. Сюда относятся прежде всего некоторые виды нечисти (например, черт с наличием как антропоморфных, так и зооморфных черт) и особенно медведь.[4]
Замечание Иванова и Топорова о медведе как о человеческо-животном гибриде чрезвычайно важно, поскольку оно подчеркивает переходный – градуальный -- статус представителя цивилизации леса, к которой относятся и животные, и такие существа как лешие, черти и т.д., часто наделенные одновременно и человеческими, и животными, и потусторонними чертами. Такого рода гибриды (фавны, нимфы, сирены, кентавры и т.д.) обильно представлены в греческой мифологии и составляют традиционную свиту в процессиях Диониса. В русской мифологии они также грают важную роль, поскольку служат ключом для понимания структуры «немира», то есть вселенных, находящихся на периферии известного и хорошо упорядоченного космоса, но организованных сходным образом. Если медведь ближе всего к людям и является наиболее ярким представителем «лесного человека» (равно как и черт), то и остальные животные (и духи) в целом мыслятся также: их «человечность» не столь наглядна, как в случае способного передвигаться на задних лапах медведя, но и они являются в определенном смысле «людьми» или гибридами. При том, что центр тяжести смещается все больше прочь от обычного человека, связи с ним никогда не прерываются окончательно. Поэтому «нечеловек», как обитатель «немира», кем бы он ни был, всегда есть хотя бы немного, но «человек», то есть гибрид и никогда не чисто привативное существо, в котором человеческого начало вообще отсутствует. Медведь, таким образом, есть зверь по преимуществу[5], находясь на границе и открывая собой вход в царство леса, где обитают другие менее очевидно антропоморфные гибриды. Отсюда образ медведя-привратника, встречающиеся в некоторых русских легендах. Отсюда же его статус как «хозяина леса».
Иванов и Топоров развивают эту тему:
Медведь, как известно, занимает особое место в представлениях многих народов о границе между человеческой и животной природой. Следы подобных взглядов обнаруживаются и у славян. Медведь может выступать как положительное существо человекообразной природы, обладающее душой, поскольку оно некогда было человеком («своим»). Особенно характерна человекообразная роль медведя в сказках, где медведь дружит с мужиком (сказки типа о вершках и корешках), является сыном человека или братом человека, вступает в брак с женщинами, имеет сына, принадлежащего к человеческому коллективу, борется с нечистой силой, чертенком, помогая человеку, приносит человеку богатство и т. д. (…). Положительное значение медведя и известная причастность его к «своему» проявляется в обрядах, связанных с медведем (…), — воспитание и обучение медведя (в частности, в Сибири), использование медведя для отвращения нечистой силы (...), для излечения от болезней и т. д. Наконец, характерны и обращения к медведю, обычно ласкательные или уважительные, часто построенные по образцу человеческих имен: Миша, Михаил Иванович, Михайло Потапыч и т. д. На уровне бытовых представлений с медведем часто связывается удача; сравни такие приметы, как «перебежит медведь дорогу — удача», «встреча с медведем — удача» и т. п. Характерны тексты некоторых подблюдных песен с участием медведя:
Медведь-пыхтун
По реке плывет:
Кому пыхнёт во двор,
Тому зять в терем.
В подобных песнях, как и в некоторых свадебных причитаниях, можно видеть следы мотива медведя-жениха, который сохранился и во многих сказках. Связь медведя с предвещением удачной свадьбы отмечается и в западнославянских обычаях.[6]
Тематика брака женщин с медведем еще более подчеркивает его близость к человеческому миру. При этом такая разработанность его образа и явные остатки культа медведя сближают восточных славян с палеоазиатскими народами, у которых культ медведя является следом цивилизации Великой Матери[7]. Можно предположить здесь как следы древнейших связей протославян с палеоазиатами, так и отголоски доиндоевропейских культов палеоевропейского населения Восточной Европы[8]. Но для нас важнее не прояснить роль собственно медведя в славянской мифологии и его связь с культом Великой Матери (богиня Артемида несла в своем имени отсылку к медвежьему культу -- Ἄρτεμις, «медвежья богиня»), но лишь определить структуру крестьянского (народного) толкования внечеловеческой зоны – все «нечеловеческое», «лесное», подземное», «далекое» или «посмертное» мыслится прежде всего как гибридное, то есть все еще «человеческое», но только смещенное относительно обычной крестьянской общины на несколько градусов, вплоть до полного переворачивания пропорций в случае наиболее негативных – опасных и зловещих -- персонажей и сущностей.
Феноменология народного сознания не знает «радикально иного», ganz Andere. В дионисийской оптике всякое «другое» есть видоизмененное, искаженное, трансформированное «это». Именно такое толкование мира и его антитезы («немира») и создает градуальную структуру, на которой основано глубинное осмысление русским народом процесса экзистирования: граница между «культурой» и «природой» проницаема, «природа» -- «культурна» и «человечна», она не представляет собой резкий разрыв, но территорию гибридного континуума, где в конце концов, сакральность русской избы смыкается с сакральностью самых далеких горизонтов, порождая «короткое замыкание» бытия, исключающее саму возможность «привативных оппозиций».
В этом радикальное отличие народного мира (включающего, а не исключающего «немир») от государственного света, который оперирует не с априорной сакральной цельностью и ее вариациями, порождающими через гибридизацию на периферии «медвежьи вселенные», а с частью явно высветленной территории, подлежащей восстановлению в контексте целого. Народное бытие заведомо полно, экзистенция правящей элиты заведомо частична и нуждается в чем-то, чего ей принципиально не хватает. Поэтому философские и религиозные системы, основанные на привативных оппозициях и в частности на концепции «ничто» (как богословский тезис христианства о «творении из ничто»), а позднее научные методологии были прерогативой прежде всего политической элиты, тогда как народный Логос заведомо был структурирован в контексте градуальных и эквиполентных пар[9].
[1] Виверуш де Кастру Э. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии.
[2] Дугин А.Г. Ноомахия. Горизонты и цивилизации Евразии. Индоевропейское наследие и следы Великой Матери.
[3] В китайской традиции, широко распространенной на севере Китая и Манчжурии, архетипом «человека-зверя» является лиса, которая как медведь в русской народной культуре, или ягуар у многих индейских племен реки Амазонка, выступает зверо-человеческим гибридом по преимуществу. При этом в образе лисы или «святой лисы» (Húxiān или Húshé) преобладает феминоидное начало. См. Xiaofei Kang. The Cult of the Fox: Power, Gender, and Popular Religion in Late Imperial and Modern China. NY: Columbia University Press, 2006.
[4] Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: Древний период. С. 159 – 160.
[5] Зверем по преимуществу в китайской традиции (особенно на севере Китая) является лиса. В этом качестве она интегрирована и в высокоразвитую традицию даосизма, где в некоторых школах (например, Мао Шань) утверждается, что именно небесная Лисица обучила основателя даосизма Лаоцзы мудрости.
[6] Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: Древний период. С. 160 – 161.
[7] Дугин А.Г. Ноомахия. Горизонты и цивилизации Евразии. Индоевропейское наследие и следы Великой Матери.
[8] Дугин А.Г. Ноомахия. Восточная Европа. Славянский Логос: балканская Навь и сарматский стиль.
[9] Дугин А. Г. В поисках темного Логоса.